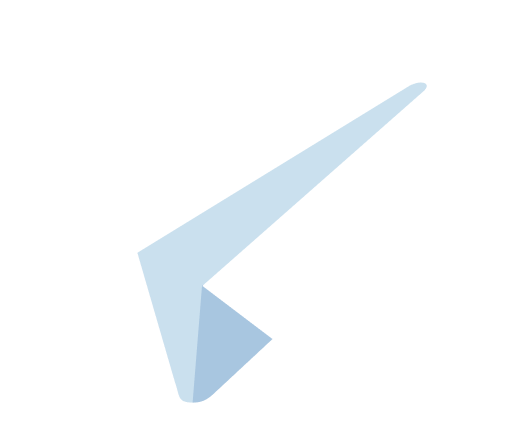7 историй о ханукальных чудесах

В прошлом в дни Хануки в еврейских газетах было принято публиковать «ханукальные рассказы» — что-то вроде рождественских историй, в которых обязательно происходит чудо с ханукальным волчком или светильником. Классики нашей идишской литературы были мастера рассказывать такие истории. Но так как обретающийся в Израиле автор этих заметок не большой мастак что-либо придумывать, то я просто решил попросить стариков в нашей тель-авивской синагоге рассказать о самой запомнившейся им в жизни Хануке. Ну, а о том, есть ли что-то чудесное в этих рассказах, судите сами…
Путеводная свеча
В 1936 году мне было четыре года, и мы жили в одном польском городке, — начал старик Меир Коэн. — Не секрет, что Ханука часто совпадает с христианским Рождеством, и я до сих пор помню, как накануне Рождества прихорашивался городок. У городского собора ставили большую елку, которую польские дети наряжали все вместе. Елочки стояли во всех домах, в том числе и в доме наших соседей-поляков. На улицах играла гармонь, то и дело пели и танцевали какие-то парни и девушки…
Боже мой, как я в эти дни завидовал полякам! Как я умолял родителей поставить в доме елку, быть, как все. Они объясняли мне, что мы — евреи, что у нас дома будет не елка, а ханукия, но так же, как у христиан, будут подарки и даже ханука-гелт, но меня это не утешало. Помню, как я не любил ходить с родителями в нашу старую синагогу, как раздражали меня мужчины, заворачивающиеся в какие-то простыни…
И вот однажды мы пришли с родителями в синагогу. Началась молитва, а я, четырехлетний сопляк, заметив, что отец слишком глубоко погрузился в разговор с Богом, осторожно выскользнул за дверь и пошел по вечерней улице на звуки задорной польской песни. Сколько я вот так гулял по городу, не знаю, но наконец решил поворачивать и тут понял, что заблудился. А холод-то на улице жуткий! Кручусь туда-сюда, не зная, куда же мне идти, и вдруг замечаю, как вдалеке вспыхнула свеча, за ней — другая. Я пошел на ее свет и вскоре оказался возле синагоги. Староста как раз выволок на улицу огромную ханукию — ханукальный светильник — и зажег первую свечу праздника. Вот и все…
— Как все? — спрашиваю я. — А что же было дальше?
— Дальше мы, слава Богу, получили разрешение на выезд и уехали в Палестину.
— Так в чем же здесь чудо?
— А чудо, я думаю, в том, что и сегодня и я, и мои внуки зажигают в дни Хануки ханукальные свечи. Если бы я и родители остались в Польше, то, скорее всего, погибли бы в лагере. А если бы не погибли, то сейчас я бы наряжал новогоднюю елочку. То, что мы все сейчас здесь, то, что мы готовимся к Хануке, а не к Рождеству — это, поверьте мне, и есть самое большое, почти невероятное чудо…
Потомок Маккавеев
В моей истории, пожалуй, тоже нет ничего чудесного, хотя врезалась она в память на всю жизнь, — подхватил рассказ Меира Мозес Лейбзон. — Случилось это на Хануку 1941 года, когда немцы начали бомбить Англию. В поисках безопасного места всех детей нашего хедера перевезли на окраину города и разместили в новой синагоге. В случае воздушной тревоги мы должны были бежать из синагоги в расположенный в паре десятках метров Бейт-мидраш — еврейскую школу. Там был глубокий большой подвал, служивший нам бомбоубежищем. И вот мы закончили молитву, и учитель стал готовиться к зажиганию ханукии. Это была, как сейчас помню, пятая свеча. И вдруг — воздушная тревога, в небе гул самолетов. Учитель, естественно, собирает нас всех и выводит строем на улицу — чтобы дойти до бомбоубежища, а в это время вокруг начинают падать бомбы. Что вам сказать?! В принципе дорога до этого Бейт-Мидраша занимала пару минут, но они показались нам вечностью. Наконец, мы вошли, спустились в подвал, включили свет. «Ну что, дети, — говорит наш учитель-меламед, — несмотря ни на что, мы зажжем ханукальные свечи и будем петь праздничные песни». Но тут выяснилось, что ханукальный подсвечник и свечи меламед забыл в синагоге. Он, конечно, расстроился, но делать нечего — отбоя тревоги не было.
И вдруг я, пацан, подумал: «А если бы в такой же ситуации оказался бы Иуда Маккавей? Разве он не пренебрег бы опасностью ради того, чтобы выполнить заповедь Всевышнего?!». Словом, я понял, что должен сделать: выйти на улицу и, что бы там ни происходило, принести в подвал ханукию и свечи. Разумеется, просить на это разрешение у меламеда было бессмысленно, и потому я тихонько вышел из подвала, поднялся по лестнице и вскоре очутился на улице. Было тихо. Я спокойно дошел до синагоги, взял в одну руку свечи, а в другую — ханукию, и в это время снова завыла сирена, послышался гул немецких самолетов! Затем опять стали рваться бомбы. Выскочив из синагоги, я бросился к Бейт-Мидрашу, но на полдороги оглянулся — и увидел, как на крышу синагоги падает зажигательная бомба, затем еще одна. По идее там, как и на крышах всех домов, должен был быть дежурный от службы гражданской обороны, но поди знай, есть он там или нет. Я положил свечи и ханукию на траву, опрометью бросился назад, поднялся по приделанной к стене синагоги железной лестнице на крышу. Дежурный был там, но он был занят тушением одной бомбы, а вторая тем временем разгоралась. Я сунул в бочку с водой шланг, начал работать с ножной помпой и потушил бомбу. Но прежде чем дежурный направился ко мне, я слетел с лестницы, подхватил ханукию и свечи и побежал к Бейт-Мидрашу. Бомбардировка продолжалась, и когда я распахнул дверь, то буквально упал на руки меламеда — он обнаружил мое отсутствие и смертельно за меня испугался. Ну а потом мы зажгли ханукальные свечи…
Вот и вся история о самой запомнившейся мне Хануке.
История старой куртки
У меня у самого в запасе никакой личной чудесной истории нет, — сказал реб Пинхас, — но зато есть замечательная история, которую я услышал от отца. В 20-х годах он был учеником в одной из иерусалимских ешив, и глава этой ешивы, известный раввин, послал его и еще одного такого же, как и он, ученика-бохера в Прагу собрать пожертвования. Дело это было в то время обычное — в Иерусалиме жизнь была крайне тяжелая, и почти все ешивы — то есть и их преподаватели, и ученики — существовали на пожертвования из Европы или Америки. При этом раввин дал им адрес одного пражского богача и сказал, чтобы они первым делом заглянули именно к нему — тот, дескать, и сам щедро даст деньги, и поможет найти тех, кто к его дару добавит еще столько же. Приехали наши евреи в Прагу в самый канун субботы, явились к этому богачу, и тот их принял необычайно тепло. Вечером они пошли в синагогу, где вел молитву молодой кантор с поистине берущим за душу голосом, а затем, само собой, сели с хозяином за субботнюю трапезу.
И вот представьте себе: сидят они в огромной зале, где в шкафах стоит посуда из золота и серебра, на стенах развешаны картины великих художников, а между ними висит… старая, потрепанная и вдобавок грязная-грязная куртка.
Ну, естественно, наши ешиботники заинтересовались, что это за куртка и с какой радости она висит на таком почетном месте.
«Ну, ладно, — сказал хозяин дома, — Так и быть, расскажу… Я ведь не всегда был таким, как сейчас. Долгие годы занимался только одним — делал деньги. О своем еврействе я и не вспоминал, в синагогу, само собой, не ходил, да и вообще, кроме денег, меня ничего в жизни не интересовало. У меня уже было столько денег, что их невозможно было потратить, но я продолжал зарабатывать их как одержимый. И вот как-то зимой иду я вечером по улице и вижу еврейского мальчика. Идет дождь, вокруг слякоть, а он сидит в грязи и плачет. Ну, я заинтересовался, подошел, спросил, что случилось. «У нас оставалось последние 5 марок, — сказал он, — и папа думал, на что их потратить: на еду к субботе или на масло для ханукального светильника к празднику. Наконец, папа решил, что зажечь ханукию важнее, чем поесть, и послал меня за бутылкой масла. Я купил бутылку, но когда вышел, поскользнулся — и она разбилась! Как же мне теперь идти домой?!» — и мальчик снова залился плачем.
И вот тогда — вы не поверите! — я сел рядом с ним в эту грязь — и тоже заплакал. Я плакал о себе — о том, что всю жизнь гнался за ложными ценностями, о том, что я забыл про то, что я — еврей, и про нашего Бога…
Наконец, когда холод пробрал меня до костей, я встал сам, велел встать мальчугану, и мы вместе с ним вернулись в магазин. Здесь я купил ему столько масла, чтобы хватило на весь праздник, ну и, само собой, разной еды и подарков, для всей его семьи. С того ханукального вечера я и зажил по-другому. Связи с тем мальчиком и его семьей я не потерял, да вы его сегодня видели: он — кантор в нашей синагоге. А куртку, в которой в тот вечер сидел вместе с ним в грязи, я, как видите, повесил на стену — чтобы она напоминала мне, что для настоящего еврея зажечь ханукальную свечу куда важнее, чем поужинать коркой хлеба».
Ханука в гетто
Эту историю я слышал в 1995 году от бывшего узника Варшавского гетто Лейбла Пинкусовича, и дальнейшая судьба этого человека мне неизвестна. А история состоит в следующем…
В декабре 1942 года всем обитателям гетто уже было ясно, что они обречены, — рассказывал Пинкусович. — Но жизнь есть жизнь — мы продолжали ходить на принудительные работы и думали не о близкой смерти и о возможном сопротивлении, а о том, где раздобыть какие-то продукты. Поставщиками этих продуктов были, в основном, контрабандисты — поляки, которые проникали в гетто и предлагали муку, хлеб или некое подобие булочек в обмен на те ценности, которые нам удалось взять с собой при отправке в гетто. К концу 1942 году многие уже успели обменять все, что у них было, и покупали у контрабандистов еду за марки, которые немцы платили за принудительные работы. Это были гроши, и от голодной смерти они не спасали.
Но я хорошо помню, как утром, заглянув в прихваченный с собой в гетто календарь, я обнаружил, что наступающий вечер — первый вечер Хануки. Это было необъяснимо, но желание зажечь вечером лежащий дома ханукальный светильник — последнюю оставшуюся у меня ценную вещь — неожиданно овладело всем моим существом. Весь день я уже не мог ни о чем думать, как только об этом.
Когда мы вернулись с работы в гетто, неподалеку от ворот меня окликнул знакомый контрабандист.
— Хочешь булочку, жидок? — спросил он.
— Нет, — ответил я. — Хочу не булочку — хочу свечку. Даже две свечки.
Помню, он посмотрел на меня как на сумасшедшего.
А что даст мне пан, если я достану ему две свечи, которых сейчас нельзя сыскать по всей Варшаве? — с сарказмом спросил поляк.
— Все, что захочешь, — ответил я.
— Что именно?!
— Пачку американских сигарет!
Тут надо заметить, что пачка американских сигарет, которую я припрятал на самый черный день, была тогда во всей Варшаве огромной ценностью. Да что там пачка — даже одна американская сигарета стоила буханку хлеба, а то и больше.
— Согласен! — сказал он.
— При одном условии, - добавил я. — Я проберусь вечером к тебе в дом (а жил он неподалеку от гетто), и мы зажжем одну свечу у тебя на подоконнике.
— Ты с ума сошел, жидок! — сказал он. — На это я не пойду! Ты что, забыл о немецких патрулях?!
Но, как вы догадываетесь, жадность в конце концов победила, и он решил рискнуть. Вечером я стал выбираться с ханукией из гетто, и вместе со мной увязалось несколько моих приятелей. Никогда не забуду, как я прочел нужное благословение, как несколько голосов подхватили за мной «Амейн!» и я зажег на подоконнике квартиры этого поляка первую свечу — в надежде, что она будет хорошо видна в гетто. Но вы не поверите — словно в ответ почти сразу же вспыхнули свечи в окнах десятках домов гетто. Откуда все эти евреи взяли свечи, я не знаю. Не думаю, что они достались им легче, чем мне.
Я до сих пор вспоминаю тот морозный декабрь 1942 года, погруженную в ночной мрак Варшаву и свечи, горящие в окнах домов еврейского гетто. Вспоминаю — и понимаю, что никто не в силах потушить этот свет.
Чудо в Афуле
Не знаю, можно ли считать случившееся со мной однажды в Хануку чудом или это было что-то другое, но история, безусловно, таинственная, — вступил в разговор главный запевала нашей синагоги Дани. — Дело было в 1964 году, меня как раз призвали в армию. Неожиданно сразу после начала Хануки один из наших ребят не вернулся из отпуска на базу. Парень он был хороший, объявлять его дезертиром и докладывать в армейскую полицию командир не хотел, вот и послали меня выяснить, что с ним случилось — телефоны-то тогда были еще не у всех. Короче, поехал я в Афулу, нашел в каком-то забытом Богом месте дом этого парня, выяснил, что он просто приболел и направился назад. Когда добрался до автобусной остановки, было уже темно. Лил страшный ливень, холод был собачий, а ни автобуса, ни какой-либо попутной машины нет и нет. Смотрю — уже половина девятого вечера, а я все на остановке. Вдруг вижу: идет какой-то молодой бородатый еврей в одной рубашке и в кипе. Подходит прямо ко мне и говорит:
— Не думаю, что сегодня придет какой-нибудь автобус.
— Может, удастся словить попутку, — говорю я.
— И попутки тоже не будет. Пошли ко мне домой — поешь, отогреешься.
Ладно, пошли. Хорошо помню дорогу, которой мы шли; помню, как пришли к дому, возле которого росли три дерева. В доме уже был накрыт стол и все как будто только меня ждали. Вместе с этим парнем и какими-то мужчинами и женщинами я зажег ханукальную свечу, затем мы ели, пили, пели песни, а потом все разошлись спать. Рано утром, затемно, я встал, вышел из этого дома и направился к автобусной остановке — мне надо было как можно скорее вернуться на базу.
Однако спустя какое-то время я снова оказался в Афуле и решил зайти к хозяевам дома, чтобы поблагодарить их за гостеприимство. Пошел от автобусной остановки знакомой дорогой, дошел до того места, где должен быть дом… Что такое: три дерева есть, все вокруг более-менее знакомо, но никакого дома нет. Начал расспрашивать местных жителей — те говорят, что никакого дома на этом месте никогда и не было; всегда был пустырь. С тех пор каждый раз, когда меня заносило в Афулу, я шел на то место в надежде разыскать этот дом, но пустырь так и оставался пустырем. Лишь недавно на нем, кажется, что-то начали строить.
Я это все к тому веду, что дни Хануки — это особые дни, и с человеком в это время может произойти много чего странного…
Зовите его Элиягу…
Самое любопытное, что со мной произошла почти такая же история, — вдруг сказал славящийся своей молчаливостью Хези Эппельбаум. — Было это на Хануку 1973 года, сразу после Войны Судного дня. Я тогда служил на нашей новой северной границе, а обстановка там и после войны оставалась напряженной, да и вообще в стране было неспокойно. И вдруг начальство посылает меня и еще одного парня с заданием в центр страны. Ну, мы взяли то, что нам нужно, и тут я ему говорю: «Давай подскочим к моей тетке в Иерусалим, хорошо покушаем, выпьем, отдохнем, а утром вернемся на базу!». Сказано — сделано. Поехали в Иерусалим через арабские кварталы. И вот когда часов в десять вечера проезжали через арабскую деревню Дир-Зайт, машина заглохла. Начали проверять — выяснилось, что порвался ремень мотора. Блин! Мы вдвоем с набитой боеприпасами машиной стоим в кромешной темноте посреди арабской деревни, так что наши братья-арабы, если захотят, могут взять нас голыми руками! Час стоим, два стоим… Настроение сами понимаете какое! И вдруг вдали — огоньки. Но не от фар, а от чего-то другого; фары вроде потом засветились. Подъезжает к нам такая же машина, как наша, сидит за ней какой-то старик, а перед рулем он каким-то образом установил и зажег маленькую ханукию.
— В чем дело, ребята? — спрашивает.
— Да вот, отец, — говорю, — ремень от мотора полетел. Понятно, что у тебя запасного нет, но если ты вызовешь к нам сюда помощь, мы будем очень признательны.
— От чего же это у меня нет ремня?! Вот он! — отвечает старик — и протягивает новенький ремень, как раз такой, как нам нужен.
Признаюсь, я толком и не помню, поблагодарил я его или нет: вот только что была машина — и ее не стало. Сегодня я уверен, что это был сам пророк Элиягу (Илья-пророк). Так что Дани прав — в дни Хануки может произойти все, что угодно. Он творил чудеса в эти дни для наших праотцев, Он продолжает их творить и для нас…
Вспомним всех поименно…
У меня с детством и Ханукой связана другая история, — сказал Шмуэль. — Помню, мать стояла и жарила драники к праздничному столу, и вдруг отец заявился домой с каким-то своим знакомым, который, видимо, был страшно голоден. Мать поставила на стол тарелку драников, кувшинчик со сметаной и пошла жарить себе дальше.
Гость тем временем положил один драник себе на тарелку и сказал:
— Этот один драник я съем в память о единственности Бога.
Затем он положил на тарелку два драника и заявил:
— А эти два драника я съем в память о двух скрижалях Завета! — и проглотил оба.
Затем настал черед трех драников — в память о трех праотцах, четырех — в память о четырех праматерях…
Тут отец подскочил к матери, продолжавшей тереть картошку и жарить, и велел ей делать драники размером поменьше.
— Скоро он дойдет до выхода из Египта и начнет вспоминать всех вышедших поименно! — объяснил папа.